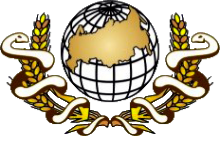НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
«Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни» («Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», 2010).
Данная Доктрина содержит 3 основных смысловых направления:
1. Качество пищевых продуктов (не просто безопасность, а и их полноценность – «полезность»);
2. Доля внутреннего производства основных видов пищевых продуктов (не менее 80% от внутренних потребностей);
3. Доступность для населения этих качественных пищевых продуктов (для всех слоев населения, независимо от социального статуса, в объеме, достаточном для организации полноценного, здорового питания).
Важным элементом Доктрины является не просто достаточное внутреннее производство пищевых продуктов, но и их качество, а также доступность.
Сама по себе Доктрина является не более чем декларацией правильных принципов и комбинацией не менее правильных слов. Не содержащих каких-либо механизмов их воплощения.
По сути, данный документ предлагает: «Счастье всем и пусть никто не уйдет обиженным». И для потребителей – граждан нашей страны, и для отечественных производителей сельхозсырья, и для его российских переработчиков. Но не содержит никаких указаний, рекомендаций, или намеков на пути и методы достижения поставленных целей.
Ситуацию можно сравнить, например, с крупной аварией, после которой ВМЕСТО плана действий и распоряжений по конкретным мерам ее устранения, выделению средств и назначении ответственных за восстановление, со значительным видом констатируется факт наличия аварии и рассуждается о насущной необходимости ликвидации проблемы.
План мероприятий по реализации Доктрины, появившийся несколько месяцев спустя, не привнес ничего нового. Все те же «заклинания по вызову дождя», вместо «поливки огорода во время засухи». Данный «План по реализации» предусмотрел лишь раздачу поручений по разработке предложений, направленных на: «совершенствование механизмов», «повышение эффективности», «стимулирование кооперации» и тому подобные аморфно-общие формулировки.
После чего ни в СМИ, ни в официальных источниках не появлялось вообще никакой информации о дальнейшей судьбе «благих намерений», изложенных в Доктрине. Возможно по причине того, что отсутствие каких-либо, практических мер, могло ослабить эффект от очередной, одной из многих, «пиар-акций» заботливого российского правительства, под названием «Доктрина продовольственной безопасности РФ».
Доктрина так и осталась декларацией, не формирующей новые управленческие практики.
«Доктрина акцентировала внимание на аграрной сфере, придав аграрным проблемам статус не отраслевых, но национальных. Однако правильные слова не порождают автоматически эффективные управленческие практики. Доктрина – это не федеральный закон. Это скорее фарватер для будущего нормотворчества. Но по прошествии времени надо признать: нормативное пространство оказалось крайне нечувствительно к новациям Доктрины. Социальная политика не пополнилась алгоритмом доступа бедных слоев населения к основным продуктам питания, равно как не возникли новые механизмы контроля качества продовольствия. Вся активность чиновников свелась к суете вокруг контрольно-целевых показателей выполнения Доктрины: одни их создавали, другие по ним отчитывались. Вместо новых практик в бизнесе возникли новые формы соревновательной отчетности чиновников.
Доктрина продовольственной безопасности РФ не нанесла вреда аграрному бизнесу и потребительскому рынку. В этом ее плюс. Но и не стала действенным элементом аграрной политики. В этом ее минус». (Барсукова С.Ю., Доктрина продовольственной безопасности России: оценка экспертов, Капитал страны – РГНФ, 08.09.2011.
По-прежнему, на прилавках катастрофично высок процент опасной и фальсифицированной продукции. Продолжается массовый обман потребителей, подмена натуральных, полноценных, полезных компонентов продуктов откровенными суррогатами и эрзацами, наносящих при регулярном употреблении огромный ущерб здоровью. При этом, недобросовестные дельцы непрерывно поднимают цены даже на такие суррогаты. Растет доля импорта продовольствия, завершается разрушение российского агропромышленного комплекса. Российские предприятия либо разоряются, либо за бесценок переходят под контроль транснациональных корпораций, которые немедленно налаживают выпуск низкокачественных, дешевых в производстве суррогатов, реализующихся населению по крайне завышенным ценам.
Сегодня на территории России можно отметить только одну положительную тенденцию – развитие независимой общественной экспертизы качества пищевых продуктов, позволяющей потребителю получать достоверную информацию об истинном составе продуктов и осуществлять сознательный, информированный выбор. Дающий, хотя бы, возможность самостоятельно заботиться о своем здоровье, избегать обмана недобросовестных дельцов, пользующихся возможностями, подаренными им современным законодательством.
Однако, это происходит не благодаря деятельности власти, до предела ограничившей функции и права Роспотребнадзора, а, скорее, вопреки ей. За счет активности независимых экспертов и общественных объединений, не связанных ограничениями, призванными «не кошмарить бизнес», который с «развязанным руками» свободно наживается на здоровье граждан России и развале АПК, в целом и пищевой промышленности, в частности.
Судя по фактам, вклад практической работы Роспотребнадзора и независимой общественной экспертизы качества пищевых продуктов в Продовольственную безопасность несопоставимо больше, чем бесплодные заклинания Доктрины
1. ЦЕНА РАСПЛАТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ЗА НЕПОЛНОЦЕННОЕ, НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения и РАМН, порядка 45% всех основных заболеваний связаны с неполноценным, некачественным питанием. Кроме того, данный фактор, в среднем, на 15 лет уменьшает продолжительность жизни.
Один из факторов неполноценного питания – это дефицит потребления основных групп пищевых продуктов, позволяющих организму выполнять свои функции и оставаться здоровым. Нарушение баланса потребления основных пищевых продуктов всего на 10% неизбежно провоцирует возникновение заболеваний (сердечно-сосудистой, нейроэндокринной, пищеварительной, иммунной и др. систем и органов) и уменьшение продолжительности жизни.
Сегодня среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов составляет 61% от физиологической нормы; рыбной продукции – 56%, овощей – 76%, молока и молокопродуктов – 88%. Конечно, высокодоходные группы населения потребляют больше. Но в целом, ниже рациональной нормы потребляют молока и молокопродуктов, примерно, 80% населения страны, мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов – 50-60%, фруктов – 70%. Но даже этот уровень потребления достигается с помощью импорта. И за счет продуктов далеко не всегда полноценного состава и качества.
Лишь картофель и мучные продукты (хлеб, макаронные изделия) россияне потребляют с превышением рациональных норм питания. Что еще больше усугубляет ущерб состоянию здоровья, поскольку формирует «перекос» рациона в пользу неполноценной углеводной модели питания – наиболее дешевой и доступной для основной части населения России.
По подсчетам ученых-экономистов, врачей-диетологов суточное потребление на одного человека в России составляет в среднем 2200 ккал (2590 ккал — в 1990 году). Мы уже отстаем от Африки, где в среднем потребляется 2300 ккал.
Выборочное исследование доходов и расходов населения показывает: пятая часть населения России голодает (употребляет 1540 ккал в день), а еще 30 % недоедают. Резко упало потребление наиболее ценных для здоровья человека продуктов питания: действительно мясных и молочных, рыбы и рыбопродуктов, яиц, сахара. Значительная часть продуктов фальсифицирована и представляет опасность для здоровья людей при регулярном потреблении.
Сегодня государство принципиально и последовательно отказывает гражданам даже в праве на жизнь в его экономическом выражении, не гарантируя гражданам России прожиточного минимума. А ведь человек с доходами ниже прожиточного минимума по самому смыслу этой категории не живет, а медленно умирает — и число таких, по данным только официальной статистики, выросло в 2012-2013 годах на полмиллиона, до 19,6 млн. чел.!
Между тем «цена вопроса» смехотворна на фоне безумных «имиджевых» проектов вроде Олимпиады в Сочи, ублажения международной и российской олигархии путем выкупа компании ТНК-ВР или неиспользуемых остатков средств на счетах федерального бюджета в размере 7 трлн.руб. и (даже с учетом вероятного занижения относительно реальных потребностей) не превышает 600 млрд.руб. в год, значительная часть из которых еще и будет возвращаться в бюджет в виде налогов.
Однако, несоответствие реального рациона модели здорового питания, лишь один из факторов фактической деградации здоровья и продолжительности жизни в России.
Куда более значимой причиной заболеваемости, связанной с неполноценным питанием, является еще один фактор – это состав даже тех продуктов, которые могут себе позволить большинство граждан страны.
Например, производитель имеет полное право не указывать в составе компоненты, доля которых не превышает 2% от общего объема продукта. То есть, как раз все консерванты, красители, ароматизаторы, эмульгаторы и др. вредные при регулярном употреблении вещества, доля которых в совокупности может достигать 30-40%.
В производстве массово используются дешевые суррогаты, эрзацы – заменители натуральных полноценных компонентов (мяса, молока, овощей, фруктов и др.). При этом надзорным органам ЗАПРЕЩЕНО контролировать состав пищевых продуктов. Кроме как на минимальный набор особо токсичных веществ. Да и это разрешено делать 1 раз в 2 года и только по предварительному уведомлению, отбирая образцы только на самом производстве. Внеплановые же проверки могут производиться только после «обоснованной» жалобы потребителя (после отравления или при явных признаках порчи продукта). Во всех других случаях, допустим, при грамотной фальсификации продукта, подмене натурального сырья дешевыми заменителями человек ни на вкус, ни на цвет, ни на запах никогда объективно не отличит качественное от некачественного, натуральное от искусственного и, соответственно, не сможет подать «обоснованную» жалобу. При регулярном употреблении таких продуктов жаловаться он будет потом – только уже врачу на состояние здоровья.
Состав же самого продукта (количество мяса в колбасе, наличие в молоке сухого молока и т.д.) надзорным органам федеральным законодательством запрещено проверять в принципе.
В итоге, даже тратя средства на вроде бы мясные, молочные продукты, соки и рыбу, фрукты и овощи – потребитель не получает тех необходимых для организма веществ (витамины, минералы, аминокислоты и др.), которые должны содержаться в нормальном, но не настолько выгодном для производителя продукте. При этом такой псевдопродукт стоит нисколько не дешевле полноценного, поскольку целью производителя и торговца является прибыль, которую он и получается, благодаря разнице в себестоимости и потребительской цене.
Так, например, за счет применения ускоряющих технологий и добавок, в большинстве яблок содержится на 96% меньше витамина С, чем должно быть в обычном яблоке, в рыбе содержится 30-50% воды (вместо самой рыбы), в колбасе – до 80% шкуры, костей, жира и сои, вместо мяса и т.д.
Все это дополнительно «обкрадывает» и без того скудный рацион, набивая карманы недобросовестным дельцам, приводя к болезням и преждевременной смерти наших граждан. Нанося удар по всем системам организма не только отсутствием полезных веществ, но и огромным количеством вредных заменителей.
Например, в настоящее время в Сибири запрещена широко распространённая, завезенная из Китая технология промышленного производства «куриных» яиц, изготовленных без участия куриц и содержащих в составе гипс, карбонат кальция, желатин, вкусо-ароматические добавки и красители. Конечно, они не содержат ни грамма пищевых веществ, необходимых для жизни и работы организма, но зато насколько выше прибыль (не надо содержать и кормить птицу, не нужны птицеводческие комплексы и т.д.). При этом содержание токсичных веществ, минимум из которых, «дозволено» проверять Роспотребнадзору не превышает установленные нормативы. А уж болезнетворной микрофлоры такие «яйца» не содержат вовсе – не живут микроорганизмы в таком «изделии».
Сегодня даже соль, казалось бы, простейшее вещество, изготавливается из синтетических заменителей, которые вредны при регулярном употреблении. Однако, использование дешевой синтетики для производителя и торговца выгоднее, чем добывать ее и доставлять с соляных месторождений.
Подробнее о данной проблеме и приемах самостоятельной потребительской экспертизы можно узнать из книги «Как спастись от пищевого терроризма и выбрать полезные продукты», которые можно приобрести в центрах оздоровительного питания программы «Здоровое питание-здоровье нации».
Соответственно, не стоит удивляться тому, что за период с начала культивирования «рыночных отношений», ставящих во главу угла «прибыль любой ценой», сопровождающегося разрушением промышленности и социальной сферы, – смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний в годовом выражении подскочила с 17,9 в 1990г. до 33,6 тыс. человек в 2011г., от новообразований – с 252 до 293,1 тыс., от болезней системы кровообращения – с 910,1 до 1151,9 тыс., а от болезней системы пищеварения – с 42,5 до 91,9 тыс. человек.
Только за 11 лет «вставания с колен» количество российских граждан, страдающих от заболеваний крови, подскочило на 27,9% (с 551 до 705 тыс. человек), от заболеваний системы кровообращения – в 1,5 раза (с 2,4 до 3,8 млн.), мочеполовой системы – на 25% (с 5,4 до 6,8 млн.), кожных заболеваний – на 7,5% ( с 6,4 до 6,8 млн. человек).
Одновременно с этим в глаза бросается не прекращающийся на протяжении всего постперестроечного периода скачкообразный рост числа осложнений беременности, родов и послеродового периода. За последние 20 лет число женщин, страдающих от осложнений беременности, подскочило в 8,28 раз – с 350 тыс. человек в конце 1980-х, до 2 млн. в 2000г., а по итогам 2010г. приблизилось к уровню 2,9 млн. человек.
За период с середины 1980-х гг. удельный вес родивших женщин, страдающих анемией, подскочил с 5,5% до 34,7%, болезнями системы кровообращения – с 4,4% до 10,4%, болезнями мочеполовой системы – с 3,8% до 19,2%, отёками и гипертензивными расстройствами – с 9,4% до 18,1%.
Не прошло бесследно «совершенствование продовольственной безопасности и социальной сферы» и для новорожденных – количество больных новорожденных подскочило с 200 тыс. в конце 1980-х гг. до 624 тыс. в 2010г., в результате чего удельный вес новорожденных с отклонениями в здоровье вырос более чем в 3 раза – с 11% до 35,5%.
Количество детей, страдающих от заболеваний органов дыхания, увеличилось с 22,9 до 25,5 млн., от болезней органов пищеварения – с 1,7 до 1,8 млн., от болезней мочеполовой системы – с 539 до 674 тыс., а численность детей с нарушениями нервной системы подскочило с 713 до 928 тыс. человек.
Не менее удручающая ситуация сложилась и в Татарстане. С ней можно ознакомиться и на нашем сайте
И этот скачок заболеваемости и ухудшения качества здоровья детей происходит на фоне снижения общей численности детей в возрасте до 14 лет с 24 млн. человек в 2000г. до 21,4 млн. по итогам 2010г.
Возможно, определенную роль в причинах текущей катастрофы может играть состояние системы здравоохранения, уровень государственных социальных гарантий и социального обеспечения, которые находятся в состоянии непрерывного реформирования. Однако, согласно канонам Всемирной организации здравоохранения, РАМН, практически все эти заболевания, так или иначе, связаны с неполноценным, некачественным питанием. А большая часть из них – непосредственно обусловлены (вызваны) этим фактором.
Показательным в этом отношении является и тот факт, что в течение 20 последних лет на 3,5-4 см уменьшился средний рост призывников. Это один из маркеров отвратительного качества структуры питания. Подобный феномен в последние десятилетия наблюдается только в 2-х странах мира (Северная Корея и Россия) (М. Делягин, 2013).
Наши граждане, фактически лишены «хлеба насущного», без которого невозможны ни полноценное здоровье, ни достойная продолжительность жизни, ни эффективная трудоспособность. Зато возможны сверхприбыли глобальных продовольственных корпораций, которым современное положение дел в области контроля качества пищевых продуктов и разрушения отечественной пищевой промышленности полностью «развязало руки».
При сохранении существующей ситуации основная часть населения России обречена на физическую деградацию и вымирание в течение 30-50 лет, даже без каких-либо военных конфликтов и социальных потрясений.
Более губительным может быть только лишение возможности дышать или потреблять в достаточном количестве полноценную, качественную воду. Либо лишить жителей Сибири электроэнергии и отопления в разгар сибирских морозов. Впрочем, такие варианты были бы гуманнее (быстрее и безболезненнее), чем мучительное умирание от голода и заболеваний, вызванных спекуляцией суррогатами, вызывающих целый букет заболеваний.
2. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Трудно поверить, но факт: объем производства молока в 2008 году был сопоставим с его уровнем в 1958 году, мяса в целом – в 1970 году, яиц – в 1977 году. А поголовье крупного рогатого скота (КРС) у нас такое же, как после коллективизации в 1933-1934 гг. (академик РАСХН И.Г.Ушачев, «Агрокредит», 2009 г.).
Сейчас на душу населения в самой России производится за год 43 кг. мяса и 194 кг. молока, а физиологически обоснованная годовая норма потребления на одного человека составляет не менее 81 кг мяса и почти 400 литров молока.
Если оценивать состояние продовольственной безопасности современной России, то его можно признать катастрофическим. Население страны обеспечивается продуктами питания отечественного производства, в лучшем случае и по официальным данным (достоверность которых известна) всего, примерно, на 50%. Вторые 50% – это импорт. А Москва, Санкт-Петербург импортируют до 70-80% продуктов питания. Границей же национальной продовольственной безопасности любой страны является объём импорта основных продуктов питания не выше 18—20% от потребностей страны.
Сегодня на ввоз импортного продовольствия Россия ежегодно тратит около 45 млрд. долларов. За последние пять лет эта сумма фактически удвоилась. Вероятно, за счет продолжающейся деградации внутреннего агропромышленного комплекса, поскольку инфляции доллара, так же как официального прироста населения за последние годы, как известно, не происходило.
Напомним, что в советское время отечественный агропромышленный комплекс полностью обеспечивал продовольственную безопасность державы. В стране работало около 18 тыс. совхозов и 30 тыс. колхозов. В тот период на селе были заняты свыше 2,5 млн. квалифицированных механизаторов, около 600 тысяч специалистов с высшим и средним образованием.
Большой удар по продовольственной безопасности, а также по социальной структуре общества нанесла «антиколхозная» кампания. Она «не опиралась на убедительные рациональные аргументы и не давала никаких оснований ожидать создания новых, более эффективных производственных структур». В итоге была разрушена огромная система, создать которую стоило чрезвычайных усилий и даже жертв.
В результате пищевая ценность потребляемого россиянами продовольствия по сравнению с дореформенным периодом снизилась почти на четверть. Дореформенный уровень потребления мясо- и молокопродуктов в ближайшие 15-17 лет, видимо, не будет достигнут.
Это объясняется тем, что за годы реформ производство основных продуктов питания в России неуклонно сокращалось и, в итоге, сегодня Россия перешла границу продовольственной безопасности.
Причины катастрофы многообразны. В их числе: — различный уровень развития сельского хозяйства и пищевой промышленности в регионах России; — неразвитость инфраструктуры рынка; — высокие тарифы на перевозки и нехватка железнодорожного подвижного состава; — олигополизация продовольственных рынков в ряде регионов; — высокие барьеры доступа производителей на продовольственный рынок и др. При этом отсутствие необходимых оперативных резервов продовольствия у государства не позволяет оказывать достаточную помощь при ухудшении продовольственной ситуации в регионах, поддерживать стабильность на продовольственных рынках. Наших сельхозпроизводителей душит не только государство, но и, при его попустительстве, посредники–перекупщики, и сети магазинов, продающих продукты питания. Бесконтрольность, коррупция, разъедающая страну, рэкет, сговор директоров рынков и посредников, чиновников и представителей правоохранительных органов разных рангов и уровней, позволяют безнаказанно взвинчивать цены, держать большинство населения России, особенно пенсионеров, студентов, безработных (а их уже около 10 млн. человек) и их семьи на голодном пайке.
Поддержка сельского хозяйства на федеральном уровне крайне недостаточна, и по многим позициям не может обеспечить даже возврата к уровню 30-летней давности. Поэтому не удивительно, что валовое производство сельскохозяйственной продукции за годы «реформ» уменьшилось наполовину. Сбор зерна снизился почти в 1,6 раза, производство мяса сократилось в 1,34 раза, молока — в 1,74 раза, яиц — в 1,2 раза, в 2,9 раза уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, птицы — в 1,5 раза, свиней — в 2 раза, овец и коз — почти в 2,5 раза. При этом приведённые цифры явно занижены, так как достоверность статистических данных весьма сомнительна из-за разрушения и манипулирования системой статотчётности.
Несмотря на общий упадок сельского хозяйства, полки магазинов остаются переполненными. Это происходит, во-первых, из-за снижения потребления населением пищевых продуктов почти в 1,5 раза (исключениями являются такие малоценные продукты питания, как хлебные изделия и картофель, потребление которых несколько выросло, несмотря на существенный рост цен). Во-вторых, более значимой причиной является все более возрастающий импорт сельскохозяйственной продукции, объемы которого превысили все допустимые нормы и уже напрямую угрожают безопасности страны.
В 21-м субъекте Российской Федерации реализация зерна убыточна. Ещё хуже ситуация с мясом: реализация говядины убыточна в 78-ми субъектах Российской Федерации из 82-х, свинины — в 20-ти, баранины — в 48-ми, птицы — в 22-х. Такая же примерно картина и по молоку. Стоит ли после этого удивляться, что у нас поголовье крупного рогатого скота из года в год уменьшается, что разоряются хозяйства и исчезают деревни. И невольно вспоминаются слова историка Н. Карамзина: «Истощённое данями крестьянство пустело… Не видим на лугах ни стад, ни коней; нивы заросли травою, а дикие звери обитают там, где прежде жили христиане».
В плачевном состоянии находится и рыболовство. Рыбопромысловый флот разгромлен приватизаторами, а его остатки ловят рыбу и добывают морепродукты для кого угодно, кроме российских граждан. Вместо 9 млн. тонн рыбы, вылавливаемой в 1990 году, сегодня вылавливается около 4,5 млн. тонн. Остаётся острым вопрос и с аквакультурой, объём производства которой у нас едва достигает 120 тысяч тонн в год (или 5% от общего объема уловов), тогда как, например, Китай производит 32 млн. тонн, маленькая Норвегия производит 600 тысяч тонн аквакультуры.
Положение России не только сложное, но и опасное. В ходе реформ сельское хозяйство получило удар, сравнимый по результатам с ядерной войной. В этой сфере РФ отброшена в хвост цивилизации. Пострадала, в том числе, даже основа всего сельского хозяйства – почва – она утрачивает плодородие, не получая достаточно ни органических, ни минеральных удобрений.
Предпосылок для реального возрождения сельского хозяйства в ближайшие годы, нет. Из оборота изъято 40 млн. гектаров сельхозугодий, почти на 20 млн. га сократились посевные площади. В целом почти 90% хозяйств всех видов собственности убыточны.
Все эти факты следствие целого комплекса причин, каждая из которых, сама по себе, не может оказать такого разрушительного влияния. Однако, в совокупности они формируют неуправляемый хаос, в отсутствие системного контроля или, хотя бы действенной реакции на происходящую катастрофу, разрушительным ураганом опустошающим огромные, некогда освоенные хозяйственные территории, разметавшим некогда целостный и эффективный агропромышленный комплекс целой страны.
Падение производства обусловлено как трансформационным спадом, так и неэффективными способами проведения экономической реформы в целом и аграрной, в частности.
Ведущую роль играет фактическое нежелание власти предпринять практические, и самое главное -эффективные шаги для сохранения и развития сельского хозяйства и пищевой промышленности. Хотя бы потому, что оно в таком случае становится конкурентом зарубежных компаний и транснациональных корпораций на огромном российском потребительском рынке.
Ведь любое производство, созданное (да и просто не разрушенное) в России, — это наглый и циничный грабеж производителей Запада и Китая, которым нужна прибыль от продажи нам своей продукции.
Основные причины и условия невозможности в современных социально-экономических, политических условиях эффективного российского сельского хозяйства и пищевого производства:
1. За последние десятилетия в 4 раза уменьшились инвестиции.
Например, в первой половине 2011 года вследствие бескормицы после катастрофической засухи 2010 года многие хозяйства, фермеры забивали скот. Мясное животноводство мало привлекает инвесторов, потому что если и получишь прибыль, то не скоро. Например, стадо быков надо откармливать два года и большую часть этого времени в условиях средней полосы России животные находятся в помещениях. Возможно, инвесторы просто не рассчитывают на стабильность в течение такого долгого времени, либо им интересна только сиюминутная прибыль, которую можно получить исключительно спекулятивным путем, но отнюдь не созидательным трудом. Для успешной реализации которого, к тому же, необходима, хотя бы видимость равных условий с зарубежными конкурентами. Которая принципиально невозможна вследствие факторов, изложенных в остальных пунктах.
2. В 17 раз снизилась государственная поддержка сельского труженика. В общих основных фондах страны доля сельского хозяйства сократилась в 4 раза. Государственная поддержка сельского хозяйства составляет около 1% в 2010г. (к примеру, из бюджета США в сельское хозяйство направляется 24%, из бюджета Белоруссии – 21%). Такая «помощь» оставила крестьянство один на один со множеством проблем.
Как крестьянину конкурировать с западными производителями, если там государственная поддержка составляет 350 евро на гектар, а в России крестьянин на гектар пашни получает примерно 208 рублей? Именно поэтому сегодня деградируют даже тучные чернозёмы.
Российским сельскохозяйственным производителям не важно, из какой корзины зарубежный фермер получает поддержку. Но, если оценивать суммарную поддержу по всем корзинам в сопоставимых величинах, например, в расчете на 1 гектар пашни, то окажется, что у нас она будет ниже, чем в ЕС, — в 14 раз, чем в соседней Норвегии — в 45 раз и даже по сравнению с развивающимся Китаем у нас она ниже в 10 раз.
3. Диспаритет цен между сельскохозяйственной продукцией и промышленной. Цены на промышленную продукцию в годы «реформ» росли в 4—5 раз быстрее, чем на сельскохозяйственную
Например, если в середине 80-х г.г. крестьяне могли продать 150 тонн пшеницы и купить комбайн «Дон», то в 2009 году за эти же 150 тонн, реализованных на рынке (по сути – отданных за бесценок посреднику), они могли приобрести только колесо от этого комбайна. Иностранная же техника, приобретаемая в лизинг во многих районах – просто наиболее быстрый способ банкротства для хозяйств. Зарубежные корпорации в этом случае, «убивают сразу трех зайцев»:
– Дважды получают деньги за технику. Вначале частично от хозяйств + после разорения (по причине диспаритета цен) этих хозяйств им полностью гасится долг за эту технику из областных бюджетов. Одновременно им возвращается эта самая техника за те же самые долги. Которую они могут продать второй раз.
– За бесценок скупаются земли разоренных таким образом хозяйств.
– Благодаря такой «региональной политике», уничтожаются российские конкуренты
Подобная схема, например, была в полном объеме реализована в Маслянинском районе Новосибирской области. В котором сегодня практически все местные хозяйства разорены, люди массово лишились работы, а земли теперь принадлежат немецкому предприятию, по странному совпадению, ранее являвшегося поставщиком той самой лизинговой техники, разорившей эти хозяйствам.
Сегодня АПК оказался не в состоянии окупать затраты на производство, из-за чего стал должником как федерального бюджета, так и частных финансовых структур. Закредитованность села приближается к 2 трлн. рублей. В то же время посредством диспаритета цен за последние 10 лет из села выкачано более 1,5 триллиона рублей. Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию душит крестьянина. Некоторые лучшие аграрные регионы, так сказать флагманы сельскохозяйственного производства, такие как, например, Татарстан, Белгородская область, за 2 последних года также снизили рентабельность, из прибыльных превратились в убыточные. В 2012 году этот процесс распространился и на другие лучшие хозяйства, имеющие европейские достижения по надоям, урожайности и т.д., и они также стали убыточными.
4. Наибольшему разрушению подверглась материально-техническая база сельского хозяйства. Годовое производство тракторов на пяти заводах сократилось почти до 12 тысяч (в среднем в 22 раза, а Белоруссия на одном заводе собирает в 5 раз больше), плугов — до одной тысячи. Культиваторов выпускается меньше в 31 раз, сеялок — в 39 раз, комбайнов зерноуборочных ~ в 66 раз, кормоуборочных — в 44 раза. Производство многих видов техники вообще остановлено. Число предприятий, производящих сельскохозяйственную технику уменьшилось на 45 заводов. А ведь техника имеет первостепенное значение в повышении производительности труда, снижении себестоимости продукции и вообще в увеличении производства продуктов питания. В итоге, хозяйства вынуждены, либо переходить на низкопроизводительный, практически ручной труд, как в 19 веке и разоряться, либо брать в лизинг зарубежную технику – и разоряться еще быстрее (см.п.3).
5. Отсутствие адекватных централизованных государственных закупок отечественной сельскохозяйственной продукции и регулирования ценовой политики. Практически все отдано коммерческим перекупщикам, отдающим предпочтение зарубежной продукции. Либо скупающих за бесценок продукцию отечественных сельхозпроизводителей и реализующих ее по высоким ценам на потребительском рынке. В итоге, средства, вместо модернизации производства оседают в карманах спекулянтов.
Сегодня перекупщики и крупные торговые сети узурпировали практически всю торговлю продовольствием. При этом они умело спекулируют импортом, загоняют отечественного производителя в нишу, где он вынужден довольствоваться тем, что в розничной цене его доля составляет всего 10—15%. В мире труд крестьянина в розничной цене продовольствия оценивается в 50% от общей стоимости. Так было и в СССР.
Государство безмолвствует. Господствует языческая либеральная вера в то, что «всемогущий рынок» сам все расставит на свои места.
А тем временем, в Россию массово ввозится некачественная продукция из США, Бразилии, Польши, Австралии. По потреблению кенгурятины мы впереди планеты всей. В 2007 году поляки подняли политический скандал на уровне Совета Европы, когда российские ветеринары уличили их в том, что они перепродавали России индийское мясо буйволов. Банально спекулировали, на что закрывали (или не открывали) глаза органы государственной власти. И это просто единичный пример. Некачественные «ножки Буша» идут к нам из США, зараженная гриппом свинина – из Канады, Штатов, Мексики, Бразилии. Подобное было в 93 – 95 г.г. ХХ века, когда россияне по причине полного разрушения системы сельхозкооперации и беспредела торговых спекулянтов были вынуждены потреблять консервы с просроченными сроками годности со
складов НАТО, несмотря на то, что в то время сельское хозяйство было практически «на подъеме», по сравнению с его сегодняшним состоянием.
6. Вступление России в ВТО.
По сути, это просто последний, завершающий шаг окончательного уничтожения сельского хозяйства. Вероятно, многим понятно, что вступление в ВТО выгодно только с точки зрения торговли природными ископаемыми – нефть, газ, металлы (присвоенных несколькими олигархическими структурами) и абсолютно разрушительно для всех остальных сфер промышленности.
Руководство страны поставило перед российским АПК задачу обеспечить продовольственную независимость страны. Но как это реализовать, если Россию – первую из развитых стран – «вступили» не просто в ВТО, а на условиях ВТО-плюс? А это значит, что Россия взяла на себя обязательства дополнительно снизить и без того мизерную государственную поддержку своему производителю сельхозпродукции, облегчить доступ на внутренний рынок импортной продукции и отказаться от экспортных субсидий, которыми, несмотря на постоянные требования развивающихся стран, в настоящее время продолжают пользоваться США и ЕС. Например, США ежегодно в бюджете предусматривают экспортные субсидии в размере 1,5 млрд. долл. и не сокращают эту статью расходов.
Такая постановка задачи очень удобно снимает всю ответственность с государства и перекладывает на плечи самих хозяйств. Можно провести аналогию со студентом, на которого вполне сознательно натравили десяток вооруженных боевиков. При этом, глядя со стороны, ему цинично советуют «пользоваться правом на самооборону и приложить все усилия для победы». Чтобы потом обвинить самого студента, который сам виноват в том, что не справился с условиями, в которые его поставили сами «советчики».
С принятием условий вступления России в ВТО объёмы производства, запланированные в Государственной программе, за 8 лет её реализации, по экспертным оценкам, будут сокращены: по мясу всех видов — свыше 1 млн. тонн, по молоку — около 1,5 млн. тонн, по сахару — 1,3 млн. тонн и т.д.
Всё это, безусловно, скажется на занятости сельского населения, которая сократится как минимум на 250 тысяч рабочих мест. Несомненно, это повлечёт и увеличение финансовых потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей.
По требованию лидеров Всемирной торговой организации, куда Россию приняли на кабальных условиях, на каждый килограмм мяса приходится всего 5 рублей помощи. В странах ЕС, США, Канаде – в 3-4 раза больше. В РФ ежегодно завозится продовольствия на 35-37 млрд. долл. Это – удавка импорта на шее страны, потерявшей продовольственную безопасность. И эта удавка затянута туго.
Вступление в ВТО обострило и такую проблему, как биологическая безопасность пищевых продуктов. На российский рынок поступают продукты питания зарубежного производства, крайне низкого качества, произведенные из откровенных отбросов. На подобные же «рельсы» переводятся бывшие российские предприятия, взятые под контроль западными корпорациями.
Со вступлением в ВТО процесс уничтожения отечественной промышленности и взятия оставшихся предприятий под контроль глобальными корпорациями обвально ускорится и завершится в течение нескольких лет. Со всеми вытекающими последствиями: на прилавках станет невозможным найти полноценные, качественные, натуральные продукты, финансовые поступления будут выводиться за рубеж уже полностью и любое политическое, социальное действие властей будет согласовываться с владельцами корпораций (иначе стране будет грозить тотальный голод).
Примером тому служит Болгария, Польша, потерявшие практически все отечественное производство в течение нескольких лет после вступления в ВТО.
7. Банки выдают крестьянину КРЕДИТЫ в лучшем случае под 15—20%. И это при рентабельности крестьянского труда в 9%. Государство частично возмещает расходы по возврату кредитов, выделяя субсидии для снижения процентных ставок. Да, это красивый жест, но в чью пользу? В большей степени в пользу банкиров. Другими словами, субсидирование кредитов это на самом деле перераспределение бюджетных средств не столько на пользу крестьянину, сколько в интересах банкиров.
Не может быть конкурентоспособным производство, получающее кредиты под 15-20%, по
сравнению с зарубежным, получающим кредиты под 2-3%. Наш Центробанк НЕ рефинансирует наши банки – значит, они берут кредиты за рубежом и предоставляют производителю кредиты по заоблачным процентам.
8. «Коррупционный вектор».
Данный фактор действует, в первую очередь, на региональном уровне. Напрямую затягивая удавку на пока еще действующих отечественных предприятиях.
Многими региональными чиновниками на словах поддерживаются отечественные региональные малые и средние предприятия, а на деле проводится их сознательный и последовательный «апартеид». Как путем избирательной поддержки крупных зарубежных «партнеров» в ущерб региональным отечественным, так и путем открытого прессинга и прямого их уничтожения с помощью пресловутого «административного ресурса» – опять же, в пользу крупных зарубежных компаний. Не секрет, что по многочисленным заявлением генеральной прокуратуры РФ, следственного комитета и высших государственных лиц, в регионах крайне высок «коррупционный потенциал». Поставьте себя на место коррупционера: Вам нужно, чтобы быстро и беспрекословно носили большие взятки. И все. В этом смысл Вашей жизни и, так называемой, «чиновничьей работы». Когда «должность» воспринимается не как рабочее место, доверенное за профессионализм, а только как инструмент извлечения прибыли. Нормальная культура взяток не приемлет. Для нее взятка – это не нормальная деловая транзакция, а нарушение закона и личное оскорбление.
Именно поэтому, кстати, Россия по рейтингам Траспаренси Интернейшенл стоит на таком высоком месте по коррупции. Потому что данный рейтинг определяет не сам уровень коррупции, а масштаб протестов против нее.
В то время, как логика многих этнонациональных торговых группировок, а также, западных транснациональных корпораций, как раз ставит «договоренности» или, так называемое, «частно-государственное партнерство» в качестве неотъемлемой части культуры ведения «бизнеса».
Представьте себе альтернативу для чиновника – вымогать с сотен малых и средних предприятий, которые протестуют, пишут жалобы, возмущаются, считают его негодяем и мерзавцем… Или он договоривается 1 раз – с «нормальным уважаемым» человеком – и ему все «заносят» беспрекословно и регулярно. Кого он выберет?
Ему нужны те, для кого нормальным культурным «кодом» является «взятка» – как «нормальная транзакция», нечто вроде «налога». Ну, или как в 90-е – «плата за крышу». Поменялись только малиновые пиджаки на костюмы Бриони, БМВ – на «Ауди» и «Лендкрузеры», а горячие утюги и паяльники – на проверки, отказ в субсидиях, кредитах, отсрочках, льготах, на тюремные сроки. Все это обеспечивают «карманные» банки, органы исполнительной власти, полиция, суды и прокуратура.
Тем более, что «достаточная» взятка для чиновника – непомерна для отечественного малого и среднего предпринимательства. А для крупных, тем более, транснациональных корпораций, – копейки. Но им сильно мешает этот самый малый и средний бизнес, как назло, производящий полезную и качественную продукцию – да еще и продающий ее по ценам значительно меньшим, чем они хотят продавать свои откровенно опасные для здоровья, но такие прибыльные суррогаты.
Вот такое «совпадение интересов и возможностей» легко и просто объясняет факт тотального уничтожения отечественного малого и среднего предпринимательства прозападной чиновничье-торгашеской бандой «на местах» – в регионах.
В качестве примера можно привести тот же Маслянинский район Новосибирской области (см.п.3), «слушания» в Законодательном Собрании НСО по организации бюджетной программы «Школьное молоко», удивительно напоминавшее «презентацию сетевой компании» по рекламе продукции конкретной западной корпорации и многое другое.
9. Удорожание энергоресурсов.
Нет смысла подробно обсуждать вклад стоимости энергоресурсов (горюче-смазочные материалы, собственно электроэнергия, отопление) в себестоимость производства продукции. Это один из основных факторов.
Также как очевиден беспрецедентный, непрерывный и не обусловленный никакими
экономическими причинами (кроме алчности олигархов) рост цен на них, сопровождающийся отсутствием значимых вложений, хотя бы в поддержание инфраструктуры добычи, производства и транспорта энергоресурсов. Вероятно, самопровозглашенные владельцы «национального достояния» знают что-то такое, чего не знает основная часть граждан и не рассчитывают сохранять надолго работающую (пока еще) с советских времен, но уже разваливающуюся на запчасти энергоинфраструктуру. Принудительные спекулятивные продажи населению водо-, электросчетчиков и энергосберегающих лампочек – не в счет.
Соответственно, данный фактор также снижает конкурентоспособность отечественной пищевой промышленности.
Однако, отсроченный эффект намного страшнее прямого банкротства предприятий. Крупные транснациональные корпорации могут себе позволить достаточно долгое время работать на пределе рентабельности и даже в убыток. Для того, чтобы забрать за бесценок обанкротившиеся от непосильного тарифного грабежа хозяйства и предприятия. После чего, в отсутствие конкуренции, монопольно диктовать такие огромные цены на дешевые, откровенно суррогатные товары, которые многократно перекроют все ранее понесенные издержки. И у населения будет только 2 выхода – покупать и умереть медленно от эрзац-пищи или не покупать ее и умереть быстро от голода.
Собственно говоря, массовое разорение хозяйств и их скупка западным капиталом за копейки практически завершается на наших глазах.
Сегодня ни одна страна, кроме России, пожиная плоды реиндустриализации, не допускает удорожания энергии и подрыва конкурентоспособности промышленности страны в угоду алчности олигархов-экспортеров и иностранных продовольственных корпораций.
10. Формирование потребительского спроса полностью отдано глобальным корпорациям.
В современной ситуации развитых технологий, один из основных факторов, формирующий выживание и развитие пищевой промышленности – это спрос на произведенную продукцию. Это и оборот средств, и прибыль, и модернизация производства, и развитие социальной, налогооблагаемой базы региона.
Следует учитывать, что, в среднем, 52-54% населения крупных российских городов, (видимо, в силу пока сохранившейся способности критически мыслить) ориентировано на потребление натуральных и качественных продуктов. В западных странах процент таких потребителей еще выше. «Интерес потребителей к вопросам сохранения здоровья и здоровому питанию – одна из основных тенденций развития глобального рынка продуктов питания и напитков,– утверждает ACNielsen, – и Россия в ряду других стран не является исключением».
Соответственно, система предложения «качественных продуктов» управляет растущим спросом на них, а значит, обеспечивает развитие производства и торговли.
Учитывая данный закон, в каждой стране – участнице ВТО (кроме, естественно, России) – созданы свои «системы качества», ориентирующие спрос потребителя. Неудивительно, что потребитель ориентирован только на, якобы «качественную» продукцию местного производства. Де-юре, сертификация продукции в этих системах – добровольная и открытая. Де-факто, например, действительно российской продукции (а не филиалу западной, типа «Юнимилк» или «Вимм-Билль-Данн») получить такое подтверждение невозможно, независимо от ее объективных характеристик. Данные системы не являются государственными, это недопустимо законодательно (как и в России), но активно поддерживаются государством.
Эти системы («organic food» – США, AFNOR – Франции, BSI – Великобритании и др.) охватывают все звенья рынка от производства до розничной торговли.
В данном случае, вопрос действительного качества стоит даже не на 2-м, а на последнем месте. По данным Food Laboratory Нью-Йоркского университета, около 70% продукции «органик-фуд» – это обычная продукция, ничем не отличающаяся от любой другой низкокачественной (что, в общем, неудивительно, учитывая, цели данной системы). Решается главный вопрос – спрос на продукцию местных сельхозпроизводителей, обеспечение их выживания и развития и, соответственно, национальной продовольственной безопасности.
В России подобные инструменты контроля внутреннего рынка не используются. Мало того, сегодня региональными властями и федеральными чиновниками агрессивно лоббируются западные системы ориентирования потребителей. ХАССП, ИСО, «органик-фуд» и другие системы – абсолютно бессмысленные с точки зрения реального потребительского качества. Но они чрезвычайно эффективны для окончательного захвата внутреннего рынка продукцией глобальных корпораций, а также полного вытеснения и уничтожения отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков по следующим причинам:
во-первых, данные системы, якобы, подтверждающие «качество», подконтрольны западным корпорациям и, соответственно, повышают и будут повышать потребительский спрос именно на их продукцию. Что, приводит к перераспределению спроса и дохода не в пользу российских предприятий.
во-вторых, данные системы никаким образом не то что не обеспечивают, но даже не оценивают реальный состав продукции. Качество же зарубежных пищевых продуктов почти всегда ниже российских.
Для большинства потребителей не секрет, что большинство из немногих еще сохранившихся малых, средних отечественных предприятий производят значительно более качественную, полноценную и натуральную продукцию, по сравнению с эрзацами, импортируемыми зарубежными транснациональными корпорациями. Не напрасно зарубежным «псевдопродуктам» зачастую «приписывают» на этикетку российское производство. Также как зарубежные корпорации с удовольствием банкротят местные предприятия и начинают выпускать свои суррогаты под их маркой. При этом потребительская цена на дешевые в производстве суррогаты и натуральные, качественные продукты абсолютно не отличается. Зачастую цена на полноценный продукт ниже, чем на откровенные заменители. Аналогично, российские предприятия, переходящие под контроль крупного зарубежного бизнеса, мгновенно переориентируются им на высокоприбыльные, но вредные для здоровья суррогаты В качестве одного из примеров можно привести комментарии главного государственного санитарного врача Г.Г. Онищенко: «Насколько я понимаю,…руководитель «Вимм-Билль-Дана», руководитель «Юни Милка» – это два монополиста… Задача их – развалить российский внутренний рынок, ликвидировать мелких переработчиков в виде областных, районных молочных заводов…и стать монополистами, разбавляя и бадяжа сухой порошок, выдавая его за российское молоко…» (Г.Г. Онищенко, Вести-FM, 2009).
Соответственно, усугубляется физический ущерб здоровью граждан России, ориентированных на данные, якобы, «качественные» продукты.
в-третьих, в регионах полным ходом идет лоббирование, вплоть до принуждения принятия российскими предприятиями, бессмысленных (с позиции качества продукции), но крайне дорогостоящих западных стандартов оценки качества (те же ХАССП, ИСО и др.). При том, что переход на них с ничуть не более худших (а во многом и лучших) российских технологий – требует достаточно большого количества времени и огромных (с точки зрения малого и среднего предприятия) затрат.
По сути, российских производителей вынуждают начать играть по чужим (не более лучшим, а просто другим, правилам). Как если бы наших биатлонистов заставили играть в футбол против сборной Бразилии (причем, не снимая лыж, но выбросив винтовки). Если действительно считать важным развитие сельхозпромышленности собственной страны, а не глобального бизнеса, то необходимо делать строго наоборот. Развивая свои объективные и эффективные системы добровольной сертификации именно полноценности, натуральности, пользы в рамках систем добровольной сертификации. А не заниматься профанацией, «добровольно» перепроверяя минимальные нормируемые показатели безопасности, которые и так проверяет Роспотребнадзор и множество различных лабораторий. Отдавая при этом контроль за растущим потребительским спросом на полноценную, качественную продукцию на откуп иностранному капиталу. Вместе с настоящим и будущим нашей сельхозпромышленности, национальной продовольственной безопасности и благополучия наших граждан.
Итак: сельское хозяйство, пищевая промышленность СССР, России, в частности, наша деревня, пережили немало бед от различных «доброжелателей» от политики (чего стоили прожекты «незабвенного» Н.С. Хрущева), от науки (в частности идеи академика Т.И. Заславской – «теория неперспективных деревень»).
Это и реализация предложений министра образования Н.С. Фурсенко о ликвидации малокомплектных школ, и «людоедское» мнение министра здравоохранения Т.А. Голиковой о ликвидации в сельских поселениях фельдшерских пунктов, и абсурдное предложение министра экономики Э.С. Набиуллиной оставить в стране только 7 мегаполисов посреди пустыни, и бредовые идеи врача-терапевта по случаю ставшим министром сельского хозяйства Е.Б. Скрынник экспортировать ежегодно по 25 млн. тонн зерна и т.д. и т.п.
Негосударственный подход к продовольственной безопасности ведет к резкому ухудшению демографической ситуации, криминализации экономики, разрушению науки и технологического потенциала АПК, разрушению финансово-кредитной сферы.
3. НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ
В сложившейся ситуации, для остановки деструктивных тенденций наиболее важными и немедленными мерами должны стать:
- Переориентирование восприятия органами власти Государства в качестве «Корпорации». Без решения данного вопроса будет невозможным реализация всех остальных действий, описанных ниже. Хотя бы потому, что цель любой корпорации – прибыль. Причем личная прибыль «хозяев» (глобального бизнеса) и «топ-менеджеров» (чиновничьей элиты). Соответственно, в таком случае речь не может идти о развитии страны или, хотя бы, о сохранении ее целостности и о благополучии ее граждан. Наоборот, такая логика, как раз диктует, что самый быстрый и лучший способ получения прибыли – это вначале продажа «собственности корпорации» (в данном случае, ресурсов), а потом и самой корпорации по частям (каких-то – прямыми продажами, каких-то путем «слияния и поглощения»). Кстати, одним из элементов увеличения прибыли «корпорации» является снижение социальных издержек до минимального уровня, при котором «наемники» (все, кто не «хозяин» и не «топ-менеджер») еще не начинают «жечь стулья» и бастовать перед «кабинетом директора», но уже и не приходится слишком тратиться на их обеспечение (это же уменьшает чистую прибыль). В данной логике, безусловно, «наемники» – мигранты из южных, азиатских стран значительно терпеливее, бесправнее и выгоднее «корпорации», чем коренное «слишком образованное» население.
Понятия «Государство», «Нация», «Народ», «Гражданин» – и «Корпорация» несовместимы. Там, где начинается «Корпорация» – заканчивается все остальное. И, в конечном итоге, начинается обслуживание транснациональных корпораций (их прибыли), которые, по определению, являются «надгосударственными», в ущерб «государству», «нации», «народу».
До тех пор, пока представители власти будут относиться к стране, региону, как к Корпорации – будет сохраняться оперирование узкими категориями сиюминутной прямой выгоды. В рамках которой будут заведомо убыточны и инфраструктура, и сельхозпроизводство, и медицина, и образование с наукой, и даже развитие городского транспорта. И наоборот, только расширение точки зрения к государственным императивам даст возможность увидеть гигантские отсроченные полезные эффекты (не для чиновника лично, конечно, а для страны и ее граждан), – вроде увеличения производительности труда при качественном и доступном здравоохранении. А также и «связанные», косвенные, но не менее важные эффекты, например, развитие доступного транспортного сообщения, позволит не только помочь развитию сельского хозяйства, но и сохранить Сибирь с Дальним Востоком, а также использовать в полной мере все ресурсы этих территорий. Или, например, реальные действия по восстановлению сельского хозяйства принесут не только продовольственную безопасность и увеличение уровня здоровья населения (массовой работоспособности), но и развитие всех смежных отраслей – от машиностроения, до науки. А также позволит не «проедать» нефтяные деньги, отдавая их западным производителям за их суррогаты, а оставлять на российских предприятиях, в экономике страны и каждого ее жителя.
Фундаментальный деструктивный посыл заключается в порочном стремлении к обожествлению глобального бизнеса и его интересов. Как следствие – глубоко укорененное убеждение в том, что национальные государства обязаны служить именно глобальному бизнесу, а если его интересы противоречат интересам национального бизнеса или тем более населения, последние должны в лучшем случае последовательно игнорироваться.
Соответственно, в настоящее время, региональная исполнительная власть воспринимает страну и регионы как Корпорацию все остальные отрасли как «мкрокорпорации», а себя в качестве топ менеджеров
- Регионы как Корпорацию менеджеров» и другого «офисного планктона», цель которого максимально быстро и в полном объеме воспользоваться плодами труда «нижестоящих сотрудников» (населения, предприятий и т.д.). И еще сэкономить на этих «подчиненных» (иначе будет меньше личная прибыль и прибыль «хозяев») При этом, стараясь не сердить своих настоящих «хозяев» – глобальный западный и этнонациональный бизнес.
Именно этот фактор и является основой всех остальных причин разрушения продовольственной безопасности, описанных выше. И здесь не помогут никакие «заклинания» высшей государственной власти в виде «бумажных» Доктрин, формальных указов или распоряжений об «усилении», «развитии», «поддержке» чего бы то ни было
И только после решения этой проблемы, непосредственные задачи России в усугубляющейся глобальной депрессии становятся феноменально простыми (по сравнению с описанной выше проблемой). Это формирование и развитие своего макрорегиона (страны) с максимальным использованием его собственных ресурсов.
Развитие за счет внутреннего рынка — универсальное правило выживания вообще и во время депрессии, в частности: никаким иным образом нельзя накопить потенциал для попытки осуществления экспансии на внешние, тем более, «закрывшиеся» в случае срыва в депрессию, рынки. Россия будет вынуждена решать эту задачу в описанных выше уникально невыгодных условиях. Либо не решать никак, как сейчас это и происходит.
Впрочем, данные задачи абсолютно характерны и для других стран. Различия лишь в том, что другие страны это делают. Мало того, развивая свой внутренний рынок, они осуществляют экспансию и на огромный российский рынок. Россия же, не просто не развивает собственные ресурсы, она с поразительной щедростью фактически уже сдала продовольственный рынок не просто зарубежным коллегам…, хуже того, она отдала его транснациональным корпорациям. Вероятно, бессмысленно спорить о том, что цели и интересы транснациональных корпораций вовсе не в развитии России, уровне жизни, благополучии или здоровье ее граждан, что они лежат в несколько иной плоскости. Мало того, они противоречат друг другу.
Может показаться, что ситуация безвыходная…
Однако выход есть.
Безусловно, развитие России и её регионов (если оно, конечно, предполагается в обозримом будущем) превратит осуществляющего его руководителя в лютого врага Запада и Китая, так как создаваемые производства будут ограничивать импорт — и перекладывать прибыли иностранных производителей в карманы российского бизнеса и, в конечном итоге, граждан нашей страны. В первую очередь, за счет полного контроля внутреннего рынка путем формирования потребительского спроса на высококачественную пищевую продукцию отечественных (местных) производителей использующих российские БИО-, НАНО- и прочие эколог сберегающие технологии.
Сегодня существует единственная в стране, уполномоченная, система добровольной сертификации «Здоровое питание – здоровье нации», которая аккредитована на оценку именно пользы, натуральности пищевой и медико-биологической ценности пищевых продуктов, впервые в стране создавшая утвержденные стандарты для такой оценки.
Однако, власти некоторых регионов, в том числе и Татарстана, все же предпочитают агрессивно лоббировать откровенно бессмысленные и дорогостоящие профанации в виде «программ органического земледелия», «конкурсов», западных систем «качества» и реализующих организаций якобы «здоровой продукции», приносящих пользу исключительно глобальным корпорациям или местным расторопным продавцам. Излишне задаваться вопросом, по каким причинам это происходит (см. п.8).
Подробнее об обсуждаемой проблеме можно узнать из книги «Как спастись от пищевого терроризма и выбрать полезные продукты».
2. Формирование потребительского спроса на качественную продукцию отечественных производителей.
Напомним, что регулирование спроса на внутреннем рынке – единственный инструмент развития промышленности, экономики и страны, в целом. Именно поэтому за рубежом исключительно развиты системы стимулирования спроса на производимый товар (речь не идет о неэффективной в последнее десятилетие прямой рекламе товаров и услуг – подробнее см.п. 10 раздела 1.2.).
В настоящее время данные зарубежные системы («органик-фуд», ХАССП, ИСО и многие другие) активно рвутся на российский рынок с целью обеспечить потребительский спрос на продукцию, поставляемую из-за рубежа. Которая, чаще всего, значительно менее качественна и полезна, по сравнению с производимой в России отечественными малыми и средними предприятиями.
Единственным способом удержать и развить внутренний спрос в пользу отечественной продукции – это развивать и поддерживать российские системы добровольной сертификации. Которые действительно оценивают медико-биологическую, пищевую ценность (пользу), а не в очередной раз перепроверяют минимальную нормируемую безопасность. Такие системы созданы и работают, это, например, «СанПит-контроль», оценивающий БАД к пище, Система добровольной сертификации «Здоровое питание – здоровье нации», оценивающая пользу всех видов пищевых продуктов.
Подробнее о принципах и методах работы систем добровольной сертификации можно узнать из книги «Как спастись от пищевого терроризма и выбрать полезные продукты».
Однако, государственный аппарат, в настоящее время, активно лоббирует западные системы, в ущерб потребительскому спросу на качественную отечественную продукцию. Усугубляя тем самым проблемы российского производителя, лишая населения возможности информированно приобретать качественные, полезные продукты и ускоряя разрушение российского АПК (подробнее см. в п. 10 раздела 1.2.).
3. Направление доходов от продажи природных нефтегазовых ресурсов на реализацию социальных программ. Данный фактор позволит повысить покупательную способность и спрос на производимую сельхозпродукцию и обеспечит развитие и модернизацию производства и переработки сельхозсырья. И не приведет к инфляции в том случае, если это будет реализовано после (или одновременно) действий, предусмотренных п.2 и 4 настоящего раздела. Иначе все средства уйдут в пользу западных корпораций, контролирующих рынок, а не останутся в российской экономике. Проше говоря, будут «проедены» и положены в карман западных производителей и поставщиков.
Например, из 127 млрд. долл., заработанных Россией в апреле-июне текущего года на экспорте невосполнимого минерального сырья и продукции низких переделов, после финансирования дефицита торговли услугами, оплаты труда, платежей по обслуживанию иностранных кредитов и займов, выплаты дивидендов иностранным акционерам и оффшорным бенефициарам, рентных платежей и уплаты вторичных доходов гражданам России осталось менее 7 млрд. долл. То есть меньше 5,5% от суммарно полученных нефтедолларов. Остальные без малого 95% были потрачены в рамках оплаты участия России в системе неэквивалентного внешнеэкономического обмена по программе «нефть (а также газ, металлы, удобрения и т.д.) в обмен на продовольствие, иностранные кредиты и займы, спекулятивный капитал, туризм и т.д.».
То есть, нефтяные деньги банально проедаются в пользу западных корпораций, на фоне полной «сдачи» контроля потребительского спроса, тем самым ускоряя окончательную деградацию нашей промышленность.
В принципе, можно провести некоторую аналогию с ситуацией в царской России незадолго до начала краха монархии. Только аналогом сегодняшней нефти и газа тогда был хлеб. Который Россия интенсивно вывозила, примерно, как сейчас вывозит сырую нефть и газ. И который назывался – «голодный экспорт». Поскольку вывоз продолжался и при неурожае, когда душевой сбор составлял около 14 пудов при критическом уровне голода для России – 19,2 пуда. Например, в 1891-92 голодало свыше 30 миллионов человек. По данным современных источников в то время от голода умерло более полумиллиона человек.
А куда, интересно, шли доходы от продажи русского хлеба? Туда же, куда идут сегодняшние доходы от продажи нефти.
За типичный 1907 год доход от продажи хлеба за рубеж составил 431 миллион рублей. Из них на предметы роскоши для аристократии и помещиков было потрачено 180 миллионов. Ещё 140 миллионов хрустевшие французскими булками русские дворяне оставили за границей – потратили на курортах Баден-Бадена, прокутили во Франции, проиграли в казино, накупили недвижимости в «цивилизованной Европе». На модернизацию России эффективные собственники потратили аж одну шестую дохода (58 миллионов руб) [12] от продажи зерна, выбитого у голодающих крестьян, которые его вырастили.
В переводе на русский язык это означает, что у голодающего крестьянина «эффективные менеджеры» отбирали хлеб, вывозили за границу, а полученные за человеческие жизни золотые рубли пропивали в парижских кабаках и продували в казино. Именно для обеспечения прибылей таких кровососов умирали от голода русские дети.
Так вот, сегодня, по итогам первого полугодия 2013г., по сравнению с аналогичным периодом 2012г очередной раз произошло усиление зависимости российской экономики от импорта – импорт товаров вырос на 4,4%. Соответственно, в будущем году у страны не будет даже тех 5,5% остатков нефтяных денег, которые остаются сейчас. Если сегодня они, как и в прошлые годы будут направляться на что угодно (олимпиады, футбол и т.д.), но не на развитие собственной промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы (которое обеспечивает развитие внутреннего рынка).
4. Восстановить и обеспечить государственный и народный контроль за качеством продовольствия.
Не надо питать иллюзий, что из-за рубежа к нам поступают качественные продукты. Или что предприятия, расположенные на территории России, но контролируемые глобальным бизнесом, выпускают полноценные, натуральные и полезные пищевые продукты. За химическим составом практически никто не следит. Нам везут колбасу из сои и молочные продукты из порошка. На наших прилавках сплошное ГМО, которое неизвестно как скажется на нашем здоровье и здоровье будущих поколений. И контроль государства за такой продукцией слабый. По причине максимального ограничения прав и функций надзорных органов.
На сегодняшний день, благодаря ряду федеральных законов, практически полностью разрушена система эффективного контроля за составом производящихся и реализующихся пищевых продуктов.
К сожалению, в настоящее время федеральное законодательство ограничивает проведение плановых проверок Роспотребнадзором 1 раз в 2 года (для вновь созданных предприятий – через 3 года). И образцы продукции отбираются исключительно на самом производстве, а не в розничной торговле. При этом календарный план проверок на будущий год официально публикуется заранее. Соответственно, любой производитель имеет массу возможностей подготовить к заранее известному «проверочному» дню, хотя бы несколько упаковок качественной продукции (главное, не перепутать с той, которая все остальное время поставляется на прилавки).
Внеочередные же проверки Роспотребнадзор имеет право провести только после жалобы потребителя. Обоснованной! То есть, потребитель не может обратиться с просьбой проверить состав колбасы или молока. Это необоснованное заявление. Для того, чтобы надзорный орган получил право провести внеплановую проверку, надо чтобы человек вначале отравился и принес подтверждающую справку из больницы. В таком случае, Роспотребнадзор получает право обратиться в Прокуратуру для разрешения на проведение внеплановой проверки. И такое разрешение он получает в половине случаев … Вероятно, излишне сомневаться, что после прохождения всей этой процедуры товар, скорее всего, будет уже распродан.
И даже в этом случае надзорные органы имеют право проверить лишь минимальные нормируемые показатели безопасности. Но ни в коем случае не состав продукта – как таковой. Это надзорным органам нельзя делать ни при каких условиях. То есть, сколько в колбасе на самом деле мяса, а сколько сои, есть ли в молоке сухое молоко, а в фарше «из говядины» – говядина, в любом случае, остается только на совести производителя.
Подробнее о данной проблеме и способах самостоятельного выбора потребителем качественной продукции можно узнать из книги «Как спастись от пищевого терроризма и выбрать полезные продукты».
Органы же региональной исполнительной власти, вообще лишены практически всех прав и полномочий для эффективного контроля качества пищевых продуктов.
Федеральное законодательство обеспечило возможность независимой общественной экспертизы, не ограниченной ни периодичностью проверок, ни обязанностью заблаговременно уведомлять торговые организации об их проведении.
И во многих регионах независимые экспертные организации, общественные объединения активно проводят общественный контроль качества пищевых продуктов. Доводят информацию до потребителей, принуждают через судебные органы прекратить выпуск откровенных суррогатов и фальсификатов (подробнее о результатах независимой экспертизы см. в Разделе «Экспертизой установлено» и «Проводится экспертиза»).
Однако, данные инициативы не встречают никакой поддержки со стороны региональной исполнительной власти. Наоборот, в большинстве регионов подобная работа вызывает откровенное неудовольствие как недобросовестных производителей и торговцев, так и чиновников. О причинах такой «частно-государственной дружбы» см. в п.8 раздела 1.2 «Коррупционный потенциал».
Необходимо восстановить систему общественного (народного) контроля путем устранения противодействия региональных чиновников и создания в каждом регионе, муниципальном образовании общественных советов при органах исполнительной власти. В составе которых основную роль должны играть независимые экспертные организации, уже имеющие опыт независимой общественной экспертизы. Материалы, полученные от данных организаций, должны оперативно использоваться местными органами самоуправления. В первую очередь, для широкого информирования потребителей о результатах проведенных экспертиз. В формате регулярного и последовательного привлечения региональных СМИ для информирования потребителей о результатах независимой экспертизы, а не только для политического пиара с целью обеспечения нужного результата выборов всех уровней.
Это, наряду с добровольной сертификацией и есть единственный механизм формирования спроса на действительно качественные, полноценные пищевые продукты, что позволяет улучшить спрос на продукцию малого и среднего отечественного производителя, чаще всего более качественную и полноценную (по сравнению с суррогатами крупных транснациональных корпораций и контролируемых ими российских предприятий). Данный фактор не только способствует улучшению состояния здоровья населения, но и повышает конкурентоспособность отечественных производителей качественных продуктов, повышая их товарооборот и, соответственно, улучшая продовольственную безопасность.
Напомним, что в настоящее время как у органов надзора, так и органов исполнительной власти отсутствуют иные, законодательно установленные механизмы эффективного контроля качества пищевых продуктов, помимо использования ресурсов независимой общественной компетентной экспертизы и добровольной сертификации.
5. Необходимо выделять средства не в виде субсидий по банковским кредитам, а непосредственно сельхозпроизводителю и регулировать процентные ставки для нужд сельского хозяйства на уровне инфляции, как это делается во всём мире.
Государственная поддержка сельхозпроизводства должна быть на уровне стран Евросоюза: не менее 15% расходной части годового бюджета
При этом приоритет должен отдаваться коллективным хозяйствам исключительно российской собственности, а не крупным западным компаниям и их филиалам, как сейчас. К примеру, в Новосибирске чиновниками откровенно лоббируется переработчик молока (филиал компании Pepsico) в ущерб региональным предприятиям, причем производящих значительно более качественную и натуральную продукцию. Аналогично, несмотря на многочисленные протесты жителей и очевидный ущерб их здоровью, а также региональным малым и средним предприятиям общепита – административными методами лоббируется тотальная застройка города Макдональдсами. Примеры и факты приводились в предыдущих разделах, а также присутствуют в последующих.
Иначе непонятно, зачем России нужен Центральный Банк, который мало того, что искусственно душит отечественную экономику и поддерживает хронический дефицит денег в финансовой системе, привязывая практически целиком эмиссию рубля к притоку иностранной валюты, так ещё и отказывается оказывать поддержку национальным производителям в условиях нарастающей конкуренции с иностранными транснациональными корпорациями (ТНК).
И с этой точки зрения вместо того, чтобы рассуждать об «ответственности перед мировым сообществом» и «невидимой руке рынка», российское руководство должно, в первую очередь думать о сохранении конкурентоспособности отечественной экономики и создании таких условий внешнеэкономической деятельности, которые были бы, как минимум, не хуже, чем у стратегических конкурентов – США, ЕС, Японии, Китая и прочих стран. В противном случае все остальные страны постараются выехать из кризиса на спине России и за счёт падения уровня жизни россиян и захвата внутреннего продовольственного рынка.
Ни одна, даже самая демократичная и приверженная принципам свободной торговли, страна мира (в том числе США), имеющая хотя бы общие представления о национальных интересах, никогда бы не позволила себе подставить под удар отечественную экономику, национальный бизнес и уровень жизни населения в угоду псевдонаучным рассуждениям о «государственном невмешательстве» и «вреде протекционизма». Громче всех на эту тему рассуждают США, ЕС, Японию и Великобритании, которые и проводят наиболее жёсткую протекционистскую политику – начиная от расширения бюджетного финансирования отечественной промышленности и оказания скрытых форм поддержки экспортёрам (экспортно-импортные кредиты, гарантии и поручительства по экспортным поставкам, льготные процентные ставки по кредитам и т.д.) и заканчивая целенаправленной девальвацией национальной валюты и масштабным рефинансированием банковской системы.
5. Ограничение «коррупционного потенциала».
Технологически это сделать несложно — достаточно сделать лишь два шага, кардинально меняющих «правила игры».
Первый — гарантированное освобождение от ответственности всякого взяткодателя, сотрудничающего со следствием. Примененная в Италии, эта мера разорвала круговую поруку жертв коррупции с чиновниками, являющимися ее организаторами, сделав последних беззащитными — в первую очередь перед их собственными аппаратными и политическими конкурентами.
Второй шаг, впервые примененный в США, — обязательная конфискация всего, пусть даже законно приобретенного, имущества семьи члена организованной преступной группировки (а коррупция во власти — всегда мафия), не идущего на добросовестное сотрудничество со следствием. Семье остается социальный минимум для терпимой жизни, — но оказывать влияние на что бы то ни было с помощью этого минимума уже будет нельзя. И, поскольку общака в принципе не может хватить на всех (он создается ведь совсем не для этого), данная мера автоматически вырубает из-под коррупции её экономическую базу.
Практика показывает, что эти два шага способны запустить режим самоочищения даже в самых криминальных и продажных сообществах, какими были, например, итальянские власти или нью-йоркская полиция. Современные технологии позволяют дополнить их введением в государстве и сотрудничающих с ним компаниях электронной системы принятия решений: она не только качественно ускоряет деятельность государства, но и резко сокращает коррупционные возможности.
Как уже говорилось, технологически все это сделать несложно – было бы желание
6. Организация сети сельхозрынков, возрождение сельхозпотребкооперации.
Повышение ее доступности для товаропроизводителей аграрно-продовольственного сектора. И государственное регулирование цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;
Все это должно происходить не в том формально-отчетном виде, в котором сельхозярмарки проводятся в регионах и занимают жалкие тысячные доли процента в общем обороте пищевой продукции. А в виде системы, позволяющей обеспечить прямой массовый сбыт продукции малым и средним частным предпринимателям.
Например, во времена сурового Сталина весьма большое развитие получила такая форма собственности, как кооператив (артель). По сути, это была разновидность бизнеса, только предприятие было собственностью работающего в нем коллектива, а не частного лица. Соответственно и прибыль распределялась на всех работников, а не на 1 хозяина и пару его друзей – «топ-менеджеров». Требования были просты: продавать качественный товар, честно отчитываться перед фининспектором и не заниматься «теневыми схемами». Так как неплохо заработать честным трудом было возможно, а наказание за жульничество было суровым и неотвратимым, то артельщики предпочитали все-таки вкалывать.
Подобные артели вносили значительный вклад в снабжение страны пищевыми продуктами: 40% производства кондитерских изделий, 50% производства сыров и колбас, более 60% рыбного улова, 80% фруктовых соков и джемов, 100% продаваемых в магазинах лесных ягод, грибов, орехов. Магазины, торгующие кооперативными продуктами, были в каждом городе и поселке – народ захаживал туда купить к столу что-то вкусненькое, когда появлялись лишние деньги (цены в таких магазинах превышали государственные). Это и есть нормальная эффективная сельхозкооперация, а не сезонные микрорынки с микропродажами, которыми отчитываются региональные чиновники. В то время как сегодня подавляющее большинство продуктов реализуется монополистами – торговыми сетями, съедающими всю прибыль сельского труженика (подробнее см. в п. 5 раздела 1.2.).
Именно артели помогли после войны трудоустроиться многим инвалидам, не дав им опуститься в отчаянии и запое. Иные калеки своим трудом поднимались так, что становились видными зажиточными людьми, не обузой, а кормильцами своих семей.
Но уже в 1960 году Н.С. Хрущев счел эти артели пережитком буржуазного строя и велел их ликвидировать. Артели перепрофилировали в госпредприятия, посадив их работников на мизерную зарплату, из-за чего те просто перестали работать. А инвалидов и вовсе вышвырнули на улицу (кроме слепых), и они, с гармошками и кружками, заполонили вокзалы и рынки хрущевского Союза. Понятно, что в «снабжении рабочих и служащих» наступил долгий затяжной коллапс, который долго пытались исправить разными «продовольственными программами». Пока в 1988 году Горбачев не додумался вновь разрешить кооперативное производство и кооперативные магазины, ставшие фундаментом современной потребительской экономики. Вот только наши «артели», в отсутствии внятного государственного регулирования, быстро стали ЧП и благодаря «волшебной руке рынке», занимаются не столько производством, сколько перепродажей импорта.
А ведь задумка Сталина была более масштабной. Планировалось всячески содействовать развитию производственной кооперации: помогать ей с помещениями и производственным оборудованием, закупками сырья и продажами готовой продукции. По сути, на плечи кооперации вообще должны были переложить заботу о полном удовлетворении спроса на целые группы товаров массового потребления. Вместо того, например, чтобы строить молочное производство полного цикла, планировалось построить еще одну молочную ферму, а её продукцию продавать кооператорам, которые бы уже ваяли из государственного молока кефир, молоко и сыр для граждан. Государству меньше заботы, артельщикам – прибыль, гражданам – радость. Все довольны.
И уже конечно, не могло и речи идти о передаче под контроль такой стратегической отрасли, как пищевая промышленность в руки западного капитала. Просто потому, что его цели – прибыль,
уничтожение российских конкурентов и увод всех доходов к себе на родину.
Особо важно расширение кооперации на селе, а также среди животноводов и рыбаков. В Москве времен СССР собирались разделить сельское хозяйство на две части: крупные колхозы гарантированно обеспечивали бы государство стратегическими продуктами (зерно, масло, мясо), а многочисленные артели по своему желанию производили бы для горожан всё, что угодно: от варенья и маринадов до копченых балыков и изысканных вин.
По сути, выполнение этого плана ликвидировало бы нехватку потребительских товаров уже в 50-х годах. В Советском Союзе наступило бы долгожданное изобилие, и людям бы осталось лишь побольше зарабатывать, чтобы купить себе вкусную еду, нарядную одежду, новую мебель, бытовую технику, автомобиль. В будущем не было бы никакого дефицита, кризиса социализма, недоверия к власти, развала Союза. Мы жили бы не в стране разваливающихся «хрущевок», среди хаоса дикого капитализма, а в красивых городах самого сильного и богатого государства на планете. Увы, началась Война…
Впрочем, у СССР был шанс всё начать заново. Отстать в своих планах лет на 15, но, восстановив страну после войны, продолжить стремиться к намеченному. Однако «люди-менеджеры», пришедшие после Сталина, оказались хуже всякой войны…
В современных условиях ограничение произвола торговых монополий представляется достаточно тривиальной задачей. Простое обеспечение финансово-экономической прозрачности любой компании, подозреваемой в злоупотреблении монопольным положением, и введение предельной торговой надбавки для торговли (вне зависимости от количества перепродаж того или иного товара) способно прекратить сегодняшний монопольный террор. Полезно будет также по примеру Германии разрешить антимонопольным органам при резких колебаниях цен сначала возвращать их на прежний уровень (с уголовным наказанием продавца за попытки организации дефицита), а уже потом заниматься расследованием. Ведь последнее может затянуться на долгие годы, в течение которых ущерб, нанесенный экономике монопольным произволом, может стать невосполнимым.
7. Необходима государственная программа о вводе земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный севооборот, пора прекратить переводить земли сельхозназначения в другие категории. Ни для кого не секрет, что ради сиюминутной выгоды отдельных дельцов и коррумпированных чиновников, в регионах идет тотальная передача сельхозугодий под строительство всего подряд.
8. Земля должна быть в государственной собственности и сдаваться только в аренду.
В настоящее время сельхозугодия посредством мошеннических схем переходит в руки банков, разного рода проходимцев с последующим выводом её из севооборота. Индивидуальные земельные паи массово скупаются у крестьян по бросовой цене, что напоминает скупку земель у американских индейцев с целью извлечения сиюминутной личной выгоды (см. предыдущий пункт).
Сибирский федеральный центр оздоровительного питания
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 28.
тел./факс: (383) 218-33-43, (383) 223-50-73.
e-mail: info@sfcop.ru